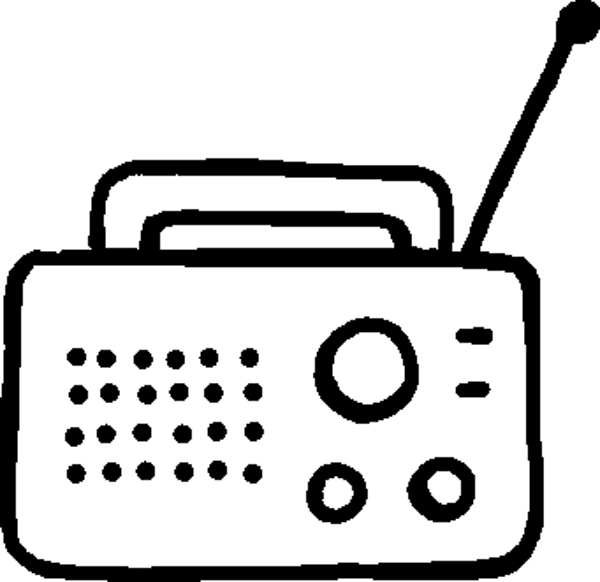Однажды я получил из центра указание приобрести два клистрона — детали, необходимые для запуска ракет и, естественно, запрещенные к экспорту в социалистические страны, — рассказывал разведчик Виталий Никольский. — Обошлись они нам в четыре тысячи долларов каждая.
Когда детали уже были у нас в руках, из центра приходит указание: один клистрон за ненадобностью вернуть. Но сделать это было невозможно! Покупали мы их через подставных лиц, потому что за такую операцию торговца могли запросто упрятать за решетку. Но в центре наши доводы не принимались и расходы на покупку второго клистрона не утверждались.
Стоимость проклятой детали равнялась двум моим годовым окладам. Попытки предложить второй клистрон чехам и полякам ни к чему не привели. Случайно спросил нашего торгового представителя: не нужен ли кому клистрон? Он запросил министерство внешней торговли и мгновенно получил ответ: «Нарочным выслать деталь в Москву! Примите срочные меры для закупки еще пяти штук, крайне необходимых нашим институтам».
Эта история произошла с Никольским в 50‑е или 60‑е годы прошлого века. Как раз в то время программа ГРУ по промышленному шпионажу была существенно реформирована: до 1953 года научно-технической разведкой занимался специальный департамент, но потом эту обязанность возложили на всех офицеров ГРУ. Поэтому теперь большинство из них помимо военного имеют также научно-техническое образование. По данным из рассекреченного отчета ЦРУ, резидентуры ГРУ получают от центрального аппарата ежегодный план с приоритетными направлениями промышленного шпионажа, который составляется с учетом того, какая информация и продукция интересуют специалистов российского военно-промышленного комплекса.
Сбор информации о научно-техническом развитии военной промышленности и о технологиях двойного назначения — одно из самых важных направлений работы ГРУ. Разведчиков интересуют самые разные сферы: инженерия, электроника, компьютерные технологии, металлургия, биология, биотехнологии, химия, аэрокосмический сектор — словом, все, что прямым или опосредованным образом можно использовать для повышения военного потенциала России. Отдельный интерес для военной разведки представляет бизнес. Это могут быть как крупные компании, так и перспективные стартапы, причем их деятельность совершенно не обязательно должна быть связана с военной промышленностью напрямую.
Исторически разведчики добывают информацию через завербованных агентов. Так, в 1948 советский военно-воздушный атташе в Швеции сумел завербовать подполковника Стига Веннерстрема. Он стал важнейшим агентом для ГРУ и в течение следующих 15 лет передал в СССР десятки тысяч документов о планах и вооружениях стран НАТО и Швеции. А завербовали его, как он сам вспоминал, практически случайно: атташе в лоб спросил Веннерстрема, за сколько он продал бы информацию, и тот согласился, потому что был зол на руководство. Сегодня для промышленного шпионажа разведчики не только вербуют агентов, но и используют кибератаки на интересующие их предприятия.
Помимо информации ГРУ важно добывать компоненты для военной продукции или сами устройства — их можно переправить в Россию для более пристального изучения и реверс-инжиниринга анализа готового продукта для выяснения его структуры, принципов работы и технологий × . Образцы зарубежной военной техники похищают с выставок, складов, при транспортировке или во время военных конфликтов, в которых участвует Россия или дружественные Кремлю режимы. Например, во время войны во Вьетнаме сотрудники ГРУ смогли раздобыть затонувшую кабину американского истребителя F‑111 и целиком переправили ее в СССР. Нынешняя война в Украине также позволяет военной разведке получать образцы современных иностранных вооружений.
Кроме того, ГРУ помогает доставлять в Россию товары двойного назначения, которые нельзя экспортировать за пределы страны приобретения. Их провозят контрабандой или через дипломатическую почту, которая не подлежит досмотру.