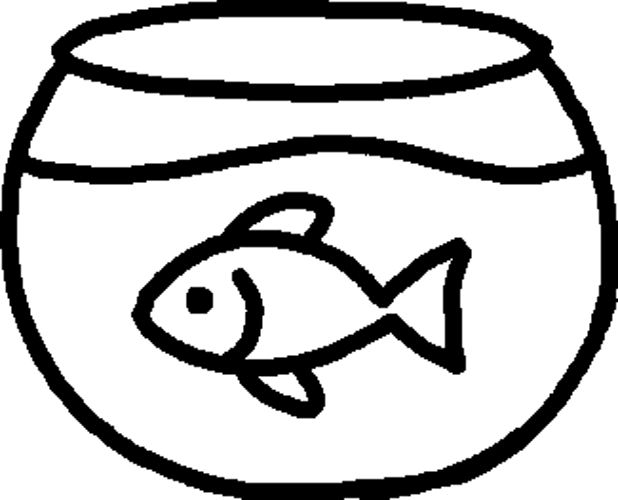«Я встретилась с помощником Зорге в цветочном магазине, он отвел меня к Зорге. Грустно было видеть человека, выполняющего столь ответственное задание, мертвецки пьяным. На столе стояла пустая бутылка из-под виски, стаканом он, видно, не пользовался. Зорге объявил мне, что нам всем, ему тоже, приказано вернуться в Москву», — так резидентка военной разведки в Японии Айно Куусинен вспоминала ноябрь 1937 года, когда Сталин приказал распустить большую часть созданных Разведупром иностранных резидентур, а агентурные сети набрать заново. Ее коллега, знаменитый шпион Рихард Зорге, пытался намекнуть ей, что возвращаться в Москву в разгар большого террора не стоит:
Чем вызван приказ, он не знал, но сказал, что бояться мне нечего, хоть в Москве и царит «нездоровая обстановка». Он сам, конечно, тоже подчинится приказу, но если я встречусь с руководством военной разведки в Москве, я должна передать, что тогда все с трудом отлаженные связи порвутся. Выехать он сможет не раньше апреля. В заключение Зорге сказал слова, которые должны были заставить меня задуматься, я их потом вспоминала не раз: «Вы очень умная женщина, я должен признать, что никогда раньше не встречал столь здравомыслящей женщины. Но мой ум превосходит ваш!» Только позже — слишком поздно! — я поняла, что он имел в виду: он умнее меня, потому что лучше меня чувствует опасность, которая грозит в Москве нам обоим. <…> Если бы Зорге тогда послушался приказа и вернулся, его бы, несомненно, уничтожили. СССР потерял бы источник информации, который через два года, после начала Второй мировой войны, оказался бесценным.
В отличие от Зорге, Куусинен приехала в Москву. Как и многие другие зарубежные разведчики, она читала в иностранных газетах о массовых репрессиях в Советском Союзе, но надеялась, что пугающие заметки были лишь буржуазной пропагандой. В Москве ее встретила тяжелая атмосфера: многие ее знакомые уже пропали без вести, другие удивлялись тому, что их до сих пор не арестовали. В Новый год Айно поднимала тост за то, чтобы страшный 1937‑й остался позади. Утром следующего дня за ней пришли органы НКВД. Как пишут историки Олег Каримов и Ольга Пумпянская, такая судьба постигла как минимум 16 военных атташе.
Армейские чистки лишили военную разведку многих опытных резидентов. На фоне поиска врагов и заговоров военные разведчики попадали под особое подозрение из-за своих международных связей и зачастую иностранного происхождения. Резиденты получали приказ немедленно вернуться на родину, где многих из них чекисты расстреливали за связи с иностранцами — то есть за выполнение своих прямых должностных обязанностей.
У ГРУ сложная история взаимоотношений с органами внутренней безопасности. Чекисты не просто конкурировали с военными на поле разведдеятельности, но и надзирали над ними, что создавало дисбаланс власти.
В 1943 году Иосиф Сталин вывел армейские особые отделы из состава НКВД и преобразовал их в новую контрразведывательную службу — СМЕРШ («Смерть шпионам»). Ее задачей было выявление и истребление шпионов среди военнослужащих. Деятельность этого ведомства стала отдельным камнем преткновения между военной разведкой и чекистами. Только за два года своего существования сотрудники СМЕРШ арестовали «около 700 тысяч человек, из которых примерно каждый десятый был расстрелян». Всего за годы войны после арестов чекистами было расстреляно 153 тысячи военных.
Это беспрецедентное число — для сравнения, нацистская Германия казнила около 20 тысяч своих военных, а в странах-союзниках число казненных не превышало двух сотен человек. Очевидно, что среди расстрелянных советских военных было множество невинных жертв, которые рисковали жизнью для защиты отечества, а в итоге погибли от рук своих сограждан. Несмотря на это, в России ветераны военной контрразведки активно занимаются реабилитацией СМЕРШ: этому посвящен отдельный раздел на сайте их организации.
Большое число расстрелянных СМЕРШ в ФСБ до сих пор объясняют не жестокостью, а невероятной эффективностью службы. Например, в 2018 году тогдашний начальник контрразведки Николай Юрьев заявил, что СМЕРШ был лучшей спецслужбой Второй мировой и «не имел себе равных ни по размаху, ни по интенсивности, ни по результатам деятельности». Он добавил, что армейское руководство якобы «высоко ценило работу особых отделов в войсках». Ветераны контрразведки настаивают, что они не зачищали армию, а наоборот, стояли с ней плечом к плечу:
В период стремительного немецкого наступления чекисты вместе с военными вели изнурительные бои с превосходящими силами противника, стояли насмерть на рубежах и позициях, участвовали в прорывах с целью выхода из окружения. В критических ситуациях, в случае потери командиров рот, батальонов, контрразведчики нередко принимали на себя командование.
ФСБ надзирает за ГРУ и сейчас, правда, массовые расстрелы остались в прошлом. Контролирует работу разведчиков департамент военной контрразведки (ДВКР), принадлежащий к Первой службе ФСБ. Он должен предотвращать попытки вербовки военных и следить за охраной государственной тайны, а также уполномочен выявлять и расследовать практически любые преступления в рядах армии.

ФСБ и другие силовики
Взаимоотношения между ФСБ и другими силовыми структурами
Кроме того, как объяснял бывший глава ДВКР Николай Юрьев (2015–2024), департамент отвечает за пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск, а также за борьбу с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках. В декабре 2024 года Николай Юрьев вышел на пенсию. СМИ сообщали, что на должность главы ДВКР рассматривается одиозный генерал Иван Ткачев, возглавлявший управление «К» Службы экономической безопасности, а до этого 6‑ю службу Управления собственной безопасности ФСБ, которую когда-то называли «сечинским спецназом». По информации Центра «Досье», формально временно исполняющим обязанности главы ДВКР сейчас является вице-адмирал Павел Бойко, который был заместителем Юрьева. Однако Ткачеву позволяют вмешиваться в дела департамента: он согласовывает важные решения и назначения, а также курирует вопросы, связанные с аннексированными территориями Украины. Но вероятно, даже если Ткачева утвердят в качестве главы ДВКР, надолго он там не задержится, поскольку метит на более высокие должности в руководстве ФСБ.
Владимир Путин с самого начала уделяет ДВКР особое внимание. В феврале 2000 года, спустя пять недель после назначения исполняющим обязанности президента, он своим указом существенно расширил полномочия военной контрразведки: как раз тогда ведомство получило право бороться с организованной преступностью и выявлять потенциальные угрозы режиму внутри армии. В том числе для этого офицеры ДВКР вербуют информаторов среди военных.
У ДВКР есть собственные управления и отделы в каждом объединении и соединении Вооруженных сил. Оперативники ДВКР закреплены за каждой воинской частью и за каждым военным учреждением. Оперативные группы ДВКР следят за военными и разведчиками во время активных военных конфликтов, например в Сирии и Украине. Как рассказывает источник «Досье», близкий к руководству Минобороны, в каждом подразделении министерства в отдельном кабинете сидит прикрепленный куратор от ФСБ, однако в штаб-квартире ГРУ такой практики нет. Вместе с тем в здании ГРУ на Хорошевском шоссе располагается подразделение Главного управления кадров Минобороны, которое традиционно контролируется ДВКР, поэтому не исключено, что отдельные сотрудники ФСБ (или завербованные военные чиновники) все же имеют доступ в «Аквариум».
ГРУ стремится держать ФСБ на расстоянии, но контрразведка имеет множество способов вмешаться в его работу: ДВКР одобряет кандидатов на руководящие должности в ГРУ, может помешать получению наград и продвижению по службе, выдвинуть подозрения в должностных нарушениях или преступлениях. Поэтому, несмотря на противоречия, сотрудники ГРУ стараются избегать конфликтов со своими прямыми кураторами и не отказывают им в некоторых просьбах, например, делятся коррупционными возможностями.
Как говорит источник «Досье», знакомый с работой военной контрразведки, сейчас отношения между ГРУ и ФСБ на уровне руководства зависят в первую очередь от личных отношений между людьми. И в ГРУ, и в ДВКР есть разные группы влияния, для которых внутренняя конкуренция может оказываться важнее ведомственной лояльности, по крайней мере в моменте.
В армии, по крайней мере на уровне руководства, все очень персонально. Нет такого, что есть один колхоз, а есть другой. Даже в самом ДВКР внутри не все так однородно. Когда [глава ДВКР в 2004–2015 годах Александр] Безверхний ушел, положение внутри военной контрразведки концептуально поменялось, потому что он был ориентирован на [бывшего главу ФСБ] Николая Патрушева и первого зама ФСБ Сергея Смирнова, а вот Юрьев — исключительно на Александра Бортникова. Когда стало понятно, что он уйдет, Безверхний взял зама ФСБ по Северному флоту Павла Бойко, за полтора–два года сделал из него вице-адмирала и поставил его первым заместителем у Юрьева. Поэтому внутри ДВКР появились две разные группы влияния. Но как и в любом подразделении, каждый отдел — свое государство. У каждого своя корова, и каждый ее доит, и каждый принесет баночку сливок начальству.
С этим согласен и другой собеседник «Досье», знакомый с руководством ГРУ.
Иногда бывает, что между отдельными офицерами налаживаются хорошие отношения — какие, например, были у Игоря Сергуна с Юрием Кузнецовым. Кузнецов был начальником главного управления кадров Министерства обороны [на момент публикации доклада он был помещен под стражу по делу Минобороны]. До этого он возглавлял Восьмое управление Генштаба — оно отвечает за защиту государственной тайны. Кузнецов — чистый ДВКРовец, но с Сергуном у него сложились очень личные отношения, тот постоянно трепал его по плечу.
Но вообще для минобороновских людей ФСБ не существует как единое целое. Для них существуют люди, которых они презирают, считают их тупыми, идиотами из пещер — это контрразведка. Говорят, как они были СМЕРШем, тупорылыми, которые сначала стреляют, а потом разбираются, так они и остались. Вот такое отношение было у всех в руководстве ГРУ — вплоть до Сергуна.
Несмотря на то, что раньше между ФСБ и военным ведомством не раз разгорались крупные скандалы, например история с хакерами группировки «Шалтай-Болтай», сейчас, как говорит собеседник «Досье», отношения между ГРУ и ДВКР более спокойные.
Единственный способ давить на ГРУ у контрразведки — это через Главную военную прокуратуру, — говорит он. — ГВП, как любая военная прокуратура, может все, что она хочет. И кое-какие трения периодически, конечно, возникали — они требовали у ГРУ документы, но естественно, никто ничего не давал. Периодически были попытки что-то проверять, но они всегда очень легкие и без сильных атак. А других способов давления у них нет. Над этим все посмеивались. Знаете, как в том анекдоте, когда налоговую в синагогу прислали: «А куда вы сдаете крайнюю плоть? — В город отправляем. — А из города что получаете? — Ну когда как, сегодня вас прислали». Такой был стеб, но проверочными делами не трогают.
Однако это не мешает им конкурировать за кадры, ресурсы и влияние. По словам собеседников «Досье», ГРУ противостоит попыткам ДВКР получать доступ к информации о действиях военной разведки и вмешиваться в работу военных, а в некоторых случаях оказывает поддержку сотрудникам Минобороны, если у тех возникают конфликты с ФСБ. ДВКР, в свою очередь, стремится продвинуть на ключевые посты в ГРУ лояльных или подконтрольных себе людей или по крайней мере заблокировать неудобных. Кроме того, ФСБ имеет возможность перехватить у ГРУ наиболее ценные кадры. Эта тенденция зародилась еще в советское время.
Разведка КГБ норовила «раздеть» военных — отобрать агентуру и выдать наши достижения за свои. Это у нас часто случалось: «соседи» умели кусок из-под носа урвать, — рассказывал генерал-майор Виталий Никольский, прослуживший в военной разведке с 1938-го по 1968 год. — Резидентуры КГБ и ГРУ сотрудничали. Например, я работаю долгое время с каким-то ценным для нас человеком, у нас установились человеческие отношения, чувствую: он готов к вербовке. Но прежде чем оформить отношения, я шел к «соседям». На всякий случай надо удостовериться, что он не состоит в их картотеке. Прихожу к резиденту внешней разведки КГБ, а он делает удивленные глаза и заявляет: «Да мы с этим человеком два года работаем!»
А я вижу, что «сосед» просто блефует. Ему захотелось самому завербовать этого человека, тем более что подготовительная работа вся проделана. Такие замашки — перехватить, забрать себе — вызывали озлобление. Чаще всего КГБ своего добивался. Мы были в неравноправном положении. Они были первыми докладчиками у начальства. Так с самого начала пошло: военные разведчики получали задания и отчитывались не только у себя в управлении, но и в политической разведке. После войны эту практику пытались изменить. В Комитете информации при Совете министров мы были на равных правах, но просуществовал комитет недолго. Нас опять развели по разным ведомствам. А руководители ГРУ сами ставили себя в подчиненное положение.
Центру «Досье» известны и обратные случаи недавних лет, когда ГРУ выходило на людей, уже завербованных ФСБ. Вероятно, это происходило из-за того, что агентурная сеть военной разведки сильно пострадала после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако ФСБ резко пресекала такие попытки ГРУ вербовать своих агентов.
Противоречия между ГРУ и другими спецслужбами есть и на уровне проведения операций. Строгая армейская вертикаль подразумевает, что приказы нужно выполнять неукоснительно, а спорить с командирами запрещено. Сочетание строгости военного мышления и более низкого по сравнению с коллегами статуса объясняет склонность к прямолинейным операциям разведчиков ГРУ, которые и заканчиваются провалами.
Из-за этого сотрудники военной разведки часто подвергаются насмешкам. Собеседник «Досье», служивший в СВР, вспоминает, как однажды его ведомство попросило военных разведчиков помочь им добыть взрывчатку для задания. По его словам, в день «икс» офицеры ГРУ явились в условленное место с взрывчатыми веществами — но без детонаторов. На резонный вопрос коллег военные разведчики развели руками: «детонаторы вы не просили».
В свою очередь, сотрудники ГРУ не испытывают особой симпатии к коллегам из ФСБ и СВР. Еще один собеседник «Досье», связанный со спецслужбами, подтверждает, что военные разведчики относятся к чекистам с неприязнью: «В их глазах ГРУ защищает родину, а ФСБ прессует население, в том числе и вооруженные силы».
Эксперты, с которыми говорил Центр «Досье», считают, что мотивация военных разведчиков в большей степени основывается на патриотических чувствах, чем у сотрудников ФСБ. Объясняется это в том числе тем, что у ГРУ намного меньше возможностей для коррупционной деятельности. (Подробнее о мотивации и идеологии сотрудников ГРУ здесь).
Распределение задач между спецслужбами
В триумвирате российских спецслужб внешней разведки ГРУ отвечает за военную сферу, СВР — за политическую и экономическую, а ФСБ, формально, — за анализ зарубежных угроз России.
Это разделение в некоторой степени условно, поскольку деятельность разведчиков во многом зависит и от случая. Если офицеру ГРУ удастся наладить хорошие контакты с каким-нибудь иностранным политиком, пусть даже и не связанным напрямую с военными вопросами, он будет общаться с ним лично, а не передавать его компетентным людям из СВР.
В первые десятилетия советской истории сферы ответственности военной разведки и иностранных подразделений чекистского ведомства часто пересекались. Лишь с 1960‑х годов ГРУ получило относительную самостоятельность в работе за границей. ПГУ КГБ, тоже проводившее операции за рубежом, все больше фокусировалось на политическом и экономическом шпионаже и впоследствии стало Службой внешней разведки.
1990‑е годы для российских силовых ведомств стали периодом турбулентности. КГБ, который у россиян ассоциировался с самыми темными страницами советской истории, был расформирован и разделен на несколько разных структур. СВР, как рассказал «Досье» собеседник, близкий к спецслужбе, пребывала в глубоком идеологическом кризисе. ФСБ сменила несколько названий, пережила существенные реформы и перераспределение полномочий и начала принимать свою нынешнюю форму только в конце 1990‑х годов.
При этом многочисленные реформы и реорганизации силового аппарата в 1990‑е годы практически не ударили по ГРУ. Разведка не только сохранила свою прежнюю структуру и преемственность, но и приобрела новые функции — в частности, по осуществлению психологической борьбы, унаследовав от советского министерства обороны управление спецпропаганды главного политического управления. Кроме того, у военной разведки сохранялись вполне понятные задачи: на многих территориях бывшего СССР развернулись военные конфликты, затрагивающие российские интересы. Все это открывало перед ГРУ широкие возможности для развития в новой реальности.
Вместе с тем разведка все же столкнулась с характерными для этого времени проблемами. Как отмечают историки спецслужб Александр Колпакиди и Дмитрий Прохоров, на фоне распада СССР некоторые «разведуправления штабов округов и армий стали действовать излишне самостоятельно», а зарубежные резидентуры подверглись сокращениям или были закрыты. Армия испытывала острый недостаток финансирования, среди военных повсеместно распространились коррупция и банальное воровство, а престиж службы резко упал. Все это в том числе вызвало кадровые проблемы в ГРУ: опытные офицеры выходили в запас, а перспективная молодежь не стремилась поступать на службу. Для ведомства, где профессиональная преемственность играет ключевую роль, дефицит квалифицированных кадров быстро становится системной проблемой. Те, кто пришел на службу в 1990‑е годы, уже не соответствовали прежним высоким критериям отбора, а их подготовка была в разы хуже. Со временем они сами начали занимать руководящие посты, становились наставниками и преподавателями, определяли стандарты и набирали новое поколение. Таким образом, деградация не просто закреплялась, а воспроизводилась, превращаясь в устойчивую тенденцию.
Несмотря на окончание холодной войны, ГРУ продолжало следовать советской военной доктрине и следить за странами НАТО. Но на фоне сокращения военных бюджетов и кадрового голода полноценно шпионить против Запада было трудно, так что основной фокус ГРУ сместился на страны бывшего СССР.
Это был очень трудный период для государства, вооруженных сил и нашего Главного управления, — вспоминал 1990‑е глава ГРУ в 1997–2007 годах Валентин Корабельников. — Я только штрихами напомню: Молдавия, Таджикистан, Карабах, пылающая Югославия с гражданской войной, Ирак, Кувейт, незатихающие боевые действия на Ближнем Востоке и целый ряд других сложнейших ситуаций. Многое было утрачено.
В начале 1990‑х ведомство получило возможность работать на территории недавно созданного Союза Независимых Государств. Согласно внутренним соглашениям, членам СНГ было запрещено шпионить друг против друга, что связывало руки спецслужбам. Однако в Алма-Атинской декларации страны СНГ договаривались о сотрудничестве в сфере военной разведки.
Между СВР и ГРУ существовало негласное правило не вмешиваться в деятельность друг друга, а полномочия ФСБ (преемницы КГБ) за границей были существенно ограничены.
Исключением была сфера радиоразведки, которую ГРУ делило с созданным в 1991 году Федеральным агентством правительственной связи и информации. Костяк агентства составляли выходцы из технических подразделений бывшего КГБ. В 2003 году радиоразведка была окончательно передана в ведение чекистов. На базе агентства в ФСБ создали центр радиоэлектронной разведки на средствах связи (16‑й центр). Сейчас он занимается не только традиционной радиоэлектронной разведкой, но и кибератаками, в том числе с использованием собственных вирусов, рассказал собеседник «Досье», знакомый с деятельностью ФСБ.
С приходом к власти Владимира Путина ситуация изменилась — в ГРУ на руководящие должности пришли люди из СВР, и долгое время ходили слухи, что военную разведку переподчинят или расформируют Подробнее об этом — в главе «ГРУ в современной России» × . Тогда же на зарубежные операции начала претендовать ФСБ. И благодаря усилению международной кооперации в борьбе с терроризмом чекисты преуспели на этом поприще.
По данным исследователя Марка Галеотти, право проводить операции в других странах сотрудники ФСБ получили еще в 2003 году: как говорил один из его источников, это произошло из-за того, что «ГРУ, похоже, не умело делать ничего, кроме как считать танки». К середине десятых конкурирующим службам даже пришлось сотрудничать друг с другом для выполнения особо важных задач — так, на Майдан в 2014 году сотрудники ГРУ и ФСБ приезжали вместе.
После начала полномасштабной войны и массовой высылки из российских посольств шпионов под прикрытием разделение задач между российскими спецслужбами стало менее четким. Как говорят собеседники «Досье», знакомые с методами работы российских разведведомств, «сейчас все занимаются всем». Офицерам спецслужб стало опаснее выезжать за границу, особенно на Запад, поэтому в «поле» их осталось довольно мало и между спецслужбами обострилась конкуренция за завербованных агентов, информацию и полномочия. В какой-то степени эту ситуацию можно считать откатом к раннесоветскому хаосу.