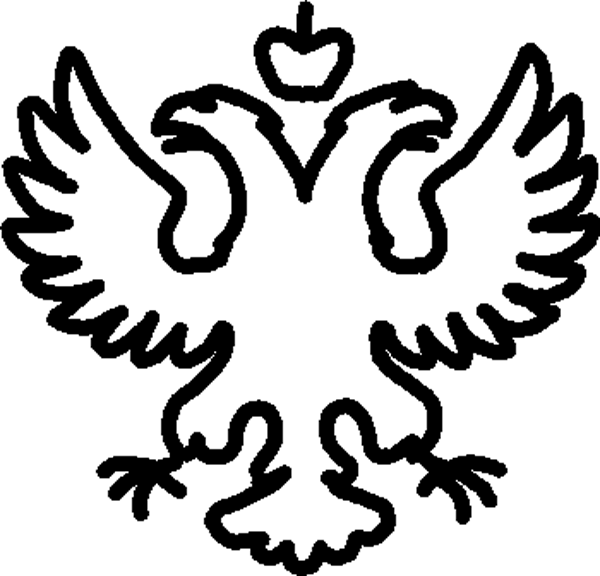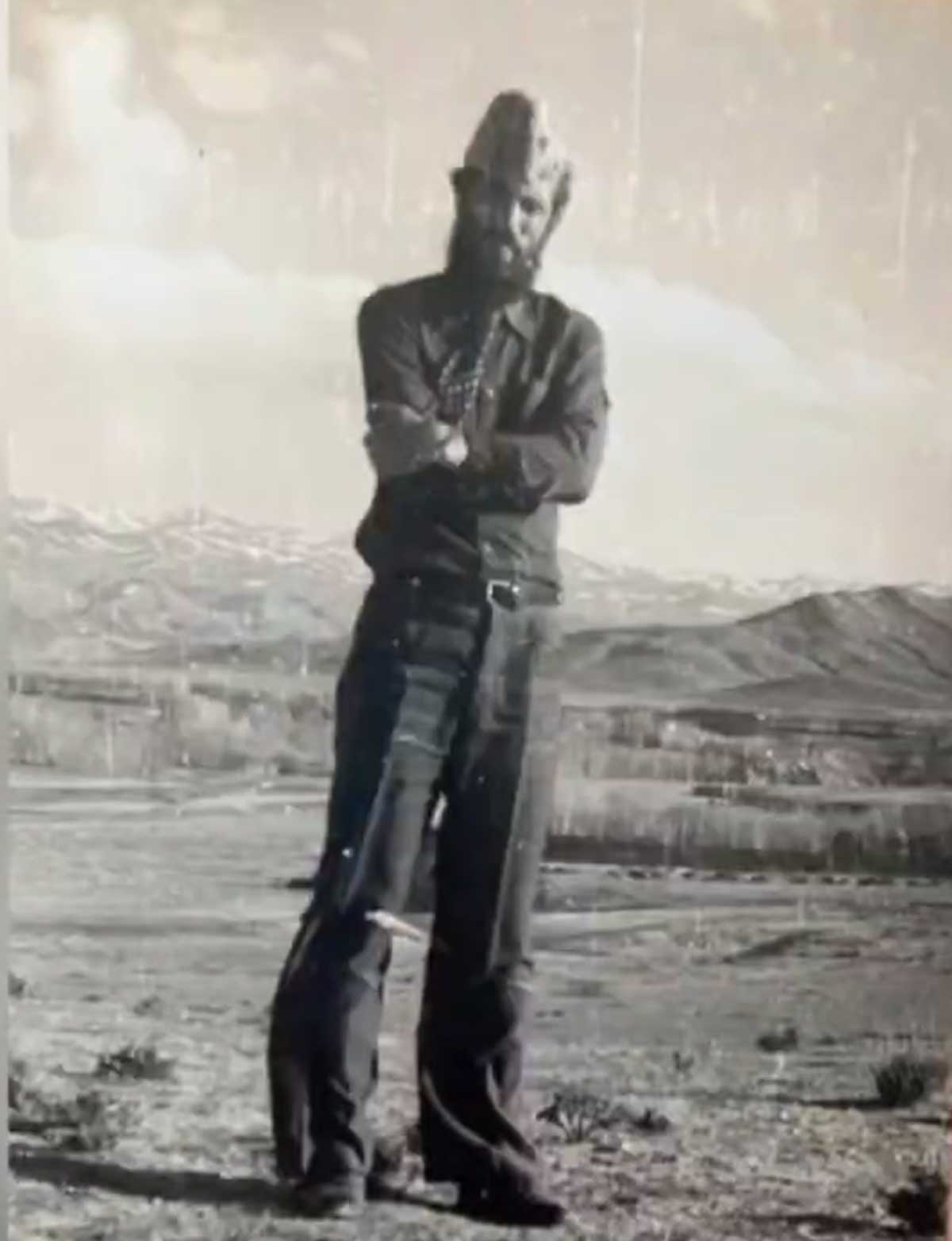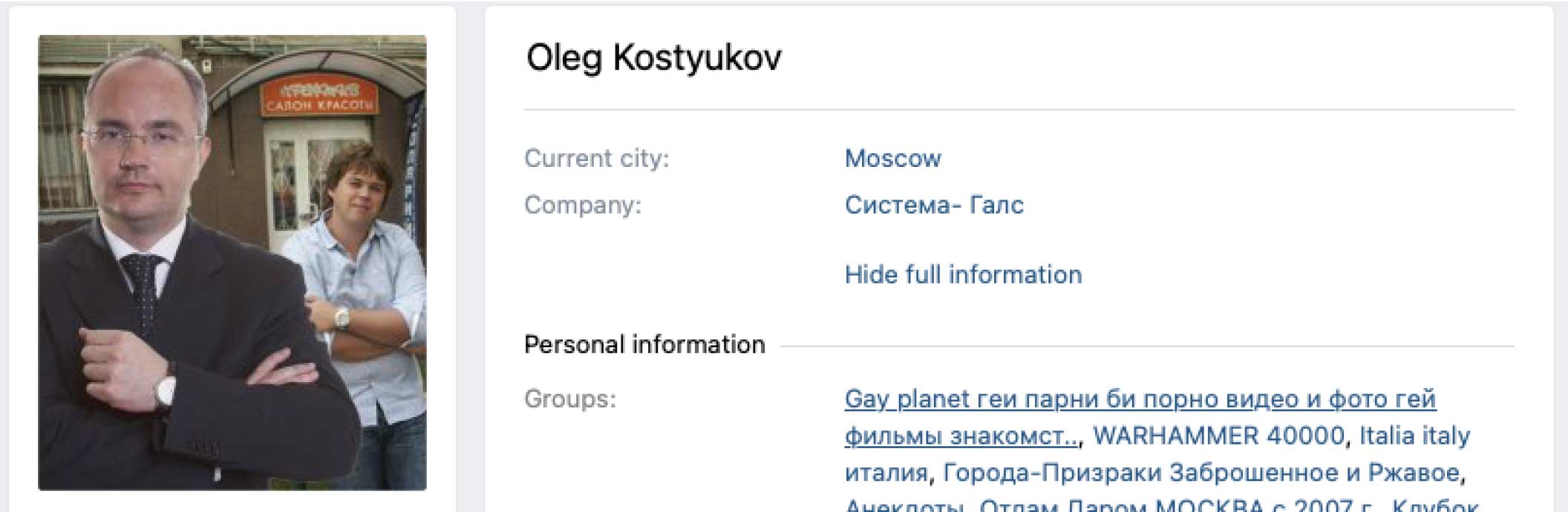В ночь с 11 на 12 июня 1999 года в косовском аэропорту Слатина шла перестрелка. С одной стороны воевали албанские вооруженные формирования, с другой — бойцы спецназа ГРУ во главе с Юнус-Беком Евкуровым. На утро к аэропорту подошел батальон российских войск, отколовшийся от миротворческой миссии ООН в Югославии. Косовская война на тот момент уже официально завершилась: мирное соглашение было подписано 11 июня, бомбардировки НАТО прекращены. Воспользовавшись моментом, Россия взяла под свой контроль единственный аэропорт в Косово, где могли приземляться военные самолеты. Захват Слатины стал самой дерзкой операцией российских войск после окончания холодной войны: впервые с момента распада СССР российское руководство открыто пошло наперекор воле Запада. Выполнение задачи обеспечило ГРУ.
Югославская война была, вероятно, первым крупным успехом военной разведки в новой эпохе. Валентин Корабельников, глава ГРУ с 1997 года, снабжал югославских военных разведданными о войсках НАТО и армии освобождения Косова. Через месяц после операции в косовском аэропорту Корабельников получил личную благодарность от президента Ельцина, а затем и звезду Героя России.
В конце 1999 года к власти пришел Владимир Путин, предводитель конкурирующего клана силовиков. Несмотря на очевидный успех в Югославии, в истории ГРУ начался очередной сложный период. В новом тысячелетии советская история подковерных интриг и чисток в рядах ГРУ повторилась — хотя и в ускоренном режиме. На протяжении первых десяти лет правления Владимира Путина над военной разведкой постоянно висела угроза частичной потери полномочий или вовсе переподчинения СВР.
В марте 2001 года министром обороны стал Сергей Иванов — давний сослуживец Владимира Путина по КГБ, впоследствии ставший его заместителем на должности главы ФСБ и главой Совбеза. В сборнике интервью «От первого лица», вышедшем в 2000 году, Путин называл Иванова одним из тех, кому он доверяет и с кем у него возникает «чувство локтя» — наряду с Николаем Патрушевым и Дмитрием Медведевым. ×
В ГРУ это назначение встретили без особого восторга: Иванов был очередным выходцем из конкурировавшего когда-то с военной разведкой Первого главного управления КГБ бывший Иностранный отдел × и, как писали СМИ, считал себя умнее генералов военной разведки. За несколько месяцев после назначения он заменил руководителей половины департаментов ГРУ 6 из 12 × на выходцев из СВР, в том числе главу ключевого департамента — радиоэлектронной разведки. На протяжении всего периода руководства Иванова 2001–2007 годы × ходили слухи, что ГРУ могут полностью подчинить СВР, а Валентина Корабельникова отправить в отставку. Впрочем, эти прогнозы не сбылись: выходцы из ПГУ КГБ были лояльны не столько к СВР, сколько к ФСБ, и функция контроля за ГРУ осталась за департаментом военной контрразведки ФСБ, полномочия которого Путин расширил еще в первые месяцы своего правления среди прочего, ДВКР поручили бороться с организованной преступностью и выявлять угрозы режиму × .
СМИ начали пестрить «наездами» на военную разведку: например, во время американского вторжения в Ирак весной 2004 года ГРУ обвиняли в неспособности предугадать развитие конфликта и обеспечить президента качественной аналитикой. Однако Владимир Путин публично поддержал разведчиков, заявив, что наряду с СВР и МИД ведомство подготовило анализ, который «чуть ли не по дням» совпал с реальным развитием событий. Тем не менее месяц спустя руководитель ГРУ Валентин Корабельников признал, что полного удовлетворения работой спецслужбы у него нет, и был вынужден отбиваться от обвинений в неэффективности.
— Понимаете, в истеблишменте существует мнение, что многие важные решения, которые принимались в последние годы во внешней политике, основывались не то чтобы на неверных, но на искаженных докладах спецслужб, которые во многом остались в советских временах. Они, дескать, не могут оценить военную тактику современных армий, отличить реальные угрозы от мнимых, оценить военно-политические изменения, которые сегодня происходят в мире гораздо быстрее, чем 10–15 лет назад.
— Создается впечатление, что истеблишмент, к которому вы апеллируете, имеет полные возможности для просмотра и анализа всей закрытой информации, которая поступает от спецслужб! Я могу сказать: офицеры, работающие в системе военной разведки как на исполнительных, так и на руководящих должностях, делают все для того, чтобы информация носила объективный, достоверный, а в ряде случаев — упреждающий характер. Когда-то это удается сделать с большим успехом, когда-то с меньшим. Но я отвергаю подтекст, прозвучавший в вашем вопросе, — что здесь сидят ретрограды, для которых важно только то, что было когда-то. У нас работают умные, подготовленные люди, умеющие оценивать изменения в обстановке и реагировать на них. Как же иначе?

В феврале 2004 года Корабельников, вероятно, вновь остался недоволен работой своих подчиненных. Случился первый громкий провал ГРУ в новейшей истории — раскрытие убийства экс-президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева в Катаре (Подробнее в разделе «Убийства»). А всего через полгода после возвращения убийц Яндарбиева на родину разразился новый шпионский скандал: Грузия обвинила сотрудников ГРУ в организации терактов и диверсий на территории страны, а затем задержала нескольких офицеров. Еще одного агента ГРУ примерно в то же время разоблачили в Азербайджане. Все эти неудачи ГРУ пришлись конкурирующим ведомствам как нельзя кстати во время передела сфер ответственности между спецслужбами.
Диверсии ГРУ в Грузии и дипломатический конфликт
В феврале 2005 года в Гори — городке неподалеку от Южной Осетии, — произошел теракт. Возле местного здания полиции взорвался автомобиль, трое полицейских погибли, 30 человек были ранены, а само здание полностью разрушено. Министр внутренних дел Вано Мерабишвили заявил, что к диверсии было причастно ГРУ: по его словам, офицер военной разведки Анатолий Сосиев организовал преступную группировку из жителей Южной Осетии (Сосиева в некоторых СМИ называют Сысоевым; человека с такой фамилией в 1995 году задерживали в Азербайджане за шпионаж). Мерабишвили утверждал, что Россия подготовила больше ста диверсантов для работы в Грузии и развернула на территории страны обширную агентурную сеть. Группировка Сосиева/Сысоева, по его словам, годом ранее также взорвала линию электропередачи, железную дорогу и радиостанцию на пути нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан.
Скандал разворачивался на фоне стремительного ухудшения отношений между Россией и Грузией — бывшая советская республика добивалась вступления в НАТО и Евросоюз, стремясь оградить себя от влияния Москвы. Именно в эти годы начиналась борьба Кремля с американским влиянием и «бархатными революциями», которые на тот момент уже успели произойти в самой Грузии (2003), а затем в Украине (2004) и Кыргызстане (2005). Грузия, а вместе с ней уже вступившие в европейские альянсы страны Балтии, стали одним из главных фокусов внешней политики Кремля — в новостях практически каждый день можно было услышать про притеснение русскоязычного населения и неуважение к советским памятникам; начались торговые войны и прочий обмен дипломатическими колкостями. В случае с Грузией шпионский конфликт нарастал в течение года и достиг пика в 2006‑м, когда правоохранительные органы страны задержали нескольких по различным данным — от четырех до шести × разведчиков ГРУ и 11 местных агентов, а впоследствии местная полиция окружила штаб группы российских войск в Закавказье с требованием выдать еще одного подозреваемого шпиона.

Министр внутренних дел Мирабишвили объявил, что четверо задержанных сотрудников ГРУ — подполковник Александр Савва, подполковник Дмитрий Казанцев, капитан 2‑го ранга Александр Загородний и подполковник Александр Баранов — обвиняются «в ведении разведывательной деятельности и планировании провокаций». Грузинская сторона обнародовала видео- и аудиоматериалы, на которых были зафиксированы встречи офицеров с агентами, факты передачи денег, разговоры с поручениями найти секретные материалы, подобраться к местам дислокации грузинских войск, а также собрать информацию о грузинских вооруженных силах.
В ответ на задержания Москва объявила Тбилиси настоящую дипломатическую войну: отозвала российского посла, эвакуировала дипломатический персонал и их семьи, а также семьи военных, прекратила транспортное и почтовое сообщение с Грузией, перевела российские военные части в режим повышенной готовности.
В дипломатический конфликт были вовлечены практически все государственные структуры: посольские школы в Грузии перестали допускать до занятий грузинских детей; из России массово депортировали грузин; полиция, миграционная служба, налоговая, прокуратура и примкнувшее к ним ультраправое «Движение против нелегальной иммиграции» начали облавы на грузинских граждан, приходили в грузинские компании и даже церкви. Государственная Дума принимала заявления с осуждением поведения Грузии, и даже российская шахматная федерация отказалась посылать участников на детский турнир в Тбилиси. Из России депортировали свыше 700 грузинских граждан, один из которых скончался в аэропорту Шереметьево от приступа астмы из-за неоказания медицинской помощи.
Различные «ответные меры» Россия принимала больше месяца, несмотря на то, что уже через пять дней после задержания офицеров ГРУ власти Грузии выслали их на родину.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили пожаловался на усиленную шпионскую активность России и заявил, что Кремль давно ждал повода для эскалации отношений.
«Это задержание российских военнослужащих за подрывную деятельность было не первым за последние три года. В октябре прошлого года я разговаривал с Сергеем Лавровым по поводу передачи горе-разведчика господина Бойко. И ровно через год опять шпионы. Были случаи, когда мы передавали этих людей по взаимной договоренности, хотя у нас есть соглашение о неведении разведдеятельности друг против друга. Мы передавали, передавали их, а потом те же самые люди были обнаружены в Южной Осетии — они туда возвращались через Рокский тоннель. И мы решили: так больше нельзя. С правовой точки зрения у нас не было никаких проблем, мы могли их задержать и отдать под суд. Но потом пошли звонки. Позвонил председательствующий в ОБСЕ и попросил: передайте этих людей России. Мы согласились. С первого дня мы вели эти переговоры с ОБСЕ, и Россия знала, что мы этих людей отдадим. Тем не менее в России начали раскручивать эту ситуацию. Я понимаю, что эта история дала какой-то негативный импульс, но то, что произошло потом, я думаю, было запланировано задолго до инцидента. Рано или поздно они начали бы гоняться за грузинами. Так называемый шпионский скандал — это же вершина айсберга. Все, что происходит сейчас, это не результат шпионского скандала. Реакция на этот скандал была настолько неадекватной, что стало ясно: меры воздействия на Грузию были продуманы давно. Просто в России ждали удобного повода для их применения».
В самый разгар российско-грузинского шпионского скандала еще одного агента ГРУ разоблачили в Азербайджане — он еще в 1997 году был завербован офицером Валерием Ластовским и за 300–400 долларов передавал донесения о структуре Генштаба Минобороны Азербайджана, боеготовности армии и ее военно-техническом обеспечении. Всего, по оценкам местного министерства национальной безопасности, в течение десяти лет в агентурную сеть ГРУ в стране входило почти 300 человек. Впрочем, реакция на это задержание была куда более сдержанной — портить отношения с Гейдаром Алиевым в планы Кремля не входило.
Вместе с тем построение путинской вертикали в некоторой степени пошло военной разведке и на пользу. В частности, в результате реформы спецслужбы в 2006 году ГРУ получило в подчинение собственные разведывательные органы Сухопутных войск, Военно-морского флота и Военно-воздушных сил. До этого, как объясняли эксперты «Агентуры», эти управления находились в двойном подчинении: они отчитывались и перед начальством своих войск, и перед ГРУ, но фактически работали как автономные разведки с руководством на местах, а не в Генштабе. × Тогда же военная разведка обзавелась новой штаб-квартирой на Хорошевском шоссе, которую открывал лично Путин.
Следующие пертурбации в ГРУ случились после назначения в 2007 году министром обороны Анатолия Сердюкова. Военные нового министра не приняли: его предшественник Иванов хотя бы был силовиком, пусть и выходцем из КГБ, тогда как Сердюков до назначения в Минобороны работал в Федеральной налоговой службе и руководил мебельным магазином. Своим советником по ГРУ Сердюков назначил еще одного «чужака» — чекиста и своего близкого соратника Сергея Королева впоследствии он вернулся в ФСБ и теперь считается основным претендентом на пост главы спецслужбы в случае ухода Александра Бортникова × .
На первый год Сердюкова в кресле министра выпало российское вторжение в Грузию в августе 2008 года. Война заняла всего пять дней и привела к полному выводу Абхазии и Южной Осетии из-под контроля Тбилиси. ГРУ, которое принимало активное участие во вторжении, снова досталось много критики: высокопоставленные военные винили разведку в потерях сухопутных и воздушных сил. Вскоре после операции были расформированы созданные в 2002 году чеченские батальоны спецназа ГРУ «Восток» и «Запад» — редкие вооруженные формирования в Чечне, которые подчинялись Москве, а не Кадырову. Они считались важным активом военной разведки в странах Ближнего Востока: например, в 2006 году их посылали в Ливан охранять группу военных инженеров.
Источник «Досье» из числа ветеранов ГРУ, принимавший участие в грузинской войне, утверждает, что чеченские бригады восприняли кампанию против соседей по Кавказу без энтузиазма и были расформированы в том числе из-за сомнений в их лояльности. Ослабление ГРУ пришлось на руку Рамзану Кадырову, который конфликтовал с командиром «Востока» Сулимом Ямадаевым. После роспуска батальонов часть спецназовцев перешла на службу к главе Чечни.
По итогам вторжения в Грузию Анатолий Сердюков начал масштабную реформу в Министерстве обороны. В первую очередь она подразумевала массовые сокращения среди военных и реорганизацию армии. Эти планы напрямую затрагивали и ГРУ: были сокращены подразделения радиоэлектронной разведки и спецназа ГРУ. Кроме чеченских батальонов были расформированы две бригады, которые многие называли самыми боеспособными: 12‑я (Асбест) и 67‑я (Бердск).
Сердюков собирался переподчинить оставшиеся бригады ГРУ военным округам, а уже на следующий год задумал создать силы специальных операций (ССО) и подчинить их напрямую Генштабу Министерства обороны вообще все силы специальных назначений, причем не только армейских, но и МВД, ФСБ и других силовых ведомств.
Глубоко убежден, что спецназ ГРУ развален абсолютно сознательно, — говорил в интервью The New Times бывший руководитель направления специальной разведки ГРУ Дмитрий Герасимов. — Из 14 бригад и двух учебных полков ГРУ в лучшем случае осталось не более четырех бригад. При этом надо понимать, что это уже не спецназ ГРУ, а обычная войсковая разведка, входящая в состав Сухопутных войск. Ликвидирована одна из лучших бригад — Бердская. С огромным трудом удалось отстоять 22‑ю бригаду, в мирное время получившую высокое звание гвардейской. Это наше самое боеспособное соединение, постоянно воевавшее на самых острых участках в Афганистане, Чечне и других «горячих точках». Могу утверждать, что также ликвидирован так называемый «осназ» — части радиоэлектронной разведки. По сути, мы строим вооруженные силы, которые ничего не видят и не слышат.
Сторонники реформ объясняли их необходимость низким уровнем подготовки в ГРУ. Полковник Виталий Шлыков, член Совета по внешней и оборонной политике он среди прочего организует Валдайский дискуссионный клуб, где регулярно выступает Владимир Путин × , называл критику перемен «трусливым саботажем реформы вооруженных сил». Шлыков утверждал, что стратегической и агентурной разведкой в ГРУ управляли «дураки», а радиоэлектронная разведка в прежнем виде России и вовсе была не нужна, поскольку страна «при всем желании не может играть ту геополитическую роль, которая принадлежала СССР в период холодной войны». Можно предположить, что Шлыков выражал если не точку зрения властей, то по крайней мере мнение значительной части силового блока, в тот момент противостоявшего ГРУ.
Тогда же над спецслужбой вновь нависла угроза слияния с СВР. 17 марта 2009 года в «Российской газете» — официальном печатном органе правительства России — вышла статья о возможных реформах военной разведки, в которой сокращения в спецназе назвали предсказуемой оптимизацией, да еще и по инициативе самих военных. Среди прочего автор статьи рассказывал о планах по передаче СВР подразделений космической и радиотехнической разведок ГРУ (якобы обременительных для военного бюджета), а то и вовсе вхождения ГРУ в состав службы внешней разведки. Причем последнее выставлялось инициативой высокопоставленных военных разведчиков: мол, в СВР оклады выше. А оставшиеся у ГРУ батальоны спецназа автор между делом предлагал разделить между Сухопутными войсками и Военно-морским флотом.
Уже через два дня в РИА «Новости», еще одном государственном СМИ, вышла ответная статья, в которой эти предложения критиковались в самых ярких выражениях.
Резкое снижение потенциала, а тем паче ликвидация ГРУ как независимой структуры по своим последствиям может быть сравнима разве что с полным односторонним ядерным разоружением России, — утверждал автор. — Подобная реформа недопустима, из каких бы благих соображений она ни исходила. Как показывает военная и политическая история многих веков, государство не имеет права получать информацию о противнике и об обстановке в целом из одного источника. Этот источник может пасть жертвой дезинформации, собственной предвзятости, наконец — всякое бывает — жертвой некомпетентности или, чему также есть немало примеров, — измены в собственных рядах.
В 2009 году ГРУ лишилось своего начальника Валентина Корабельникова, который возглавлял ведомство на протяжении 12 лет и, по слухам, противился реформам.
Разговоры об отставке Корабельникова начали ходить практически сразу после начала сокращений. О том, что Корабельников не планировал покидать должность, а скорее стал жертвой подковерных игр, говорит тот факт, что уволился он в связи с наступлением пенсионного возраста, хотя за несколько месяцев до ухода 63-летнему главе ГРУ продлили предельный срок службы. Эта процедура требует одобрения президента, и вряд ли Корабельников стал бы инициировать ее, если бы планировал уйти на покой.
На место Корабельникова был назначен его заместитель и куратор стратегической разведки Александр Шляхтуров. По информации «Коммерсанта», Шляхтуров пользовался доверием Сердюкова, однако собеседник «Досье» из ветеранов спецназа ГРУ называет его близким к ФСБ. В 2011 году Шляхтуров возглавил совет директоров госкорпорации «Оборонсервис» — вскоре она оказалась в эпицентре коррупционного скандала в Минобороны, который впоследствии послужил поводом для отставки Сердюкова. Компромат на министра обороны собирал департамент военной контрразведки ФСБ. Однако карьеру Шляхтурова разбирательства не затронули — в совете директоров АО «Гарнизон» (преемник «Оборонсервиса») он заседает до сих пор.

Отставка Сердюкова
Роль ФСБ в смещении министра обороны
В 2010‑х в российском министерстве обороны началась очередная реформа, затронувшая военную разведку. Она привела к созданию объединенных стратегических командований (ОСК), что изменило структуру военного управления, усилив вертикаль подчинения Генеральному штабу. Это повысило аппаратную роль начальника Генштаба, но ослабило влияние ГРУ и дезорганизовало работу разведывательных структур и военных округов.
Суть реформы
Дмитрий Медведев подписал указ о создании четырех объединенных стратегических командований (ОСК) на базе военных округов. Это изменило структуру военного управления и, как считает собеседник «Досье» в военно-промышленном комплексе, дезорганизовало органы центрального военного управления, а также войсковые объединения на уровне армий и флотов. Судьба диверсионных и разведывательных подразделений теперь решалась на уровне штабов ОСК, и не всегда в пользу ГРУ. Например, в составе оперативных управлений штабов флотов ВМФ РФ появились центры морской разведки, которые в тот период подчинялись напрямую только командованиям флотов. ГРУ отводилась лишь координационная роль.
Вместе с этим значительно сократились штатная численность и полномочия разведывательных управлений родов и видов войск (за исключением командования ВДВ). Вместо этого на уровне войсковых и флотских объединений были созданы разведывательные центры с прямой подчиненностью ОСК и Главному оперативному управлению Генерального штаба в составе ГОУ ГШ есть специалисты — представители видов войск × и далее главному управлению генерального штаба (по специализации) и национальному центру управления обороны (по подчиненности). Таким образом сформировалась прямая управленческая вертикаль от ОСК к начальнику Генерального штаба. Она повысила его личную аппаратную значимость, но снизила эффективность работы Минобороны и влияние ГРУ.
Александр Шляхтуров пробыл главой военной разведки всего три года, но и при нем успел случиться очередной шпионский скандал, опять в Грузии.
Агенты ГРУ и теракты в Грузии
В 2010 году власти раскрыли сеть из более чем десяти агентов с грузинским и российским гражданствами, преимущественно военных летчиков и бизнесменов, которые передавали российской разведке секретные сведения. Грузинские правоохранительные органы утверждали, что раскрыть шпионов помог двойной агент, внедренный в ГРУ. Месяцем позже власти Грузии обвинили Москву в организации серии терактов на территории страны, арестовав шестерых подозреваемых. По данным грузинского МВД, их координацией занимался офицер ГРУ по имени Евгений Борисов, которому удалось скрыться в Абхазии. В период с сентября по ноябрь — тогда же, когда грузинская полиция преследовала российскую шпионскую сеть — по стране прошла волна терактов. Первый взрыв прогремел возле посольства США в Грузии, затем на двух железнодорожных мостах, на окраине Тбилиси и возле офиса оппозиционной Лейбористской партии. Американские спецслужбы также считали, что к теракту рядом с посольством США причастно ГРУ.
В декабре 2011 года Шляхтуров вышел на пенсию, а его место занял Игорь Сергун.
Он возглавил ГРУ в звании генерал-майора — самом низком для руководителя военной разведки в новейшей истории России. Анатолий Сердюков, при котором Сергун занял свой пост, вскоре оказался в опале, и руководителю ГРУ пришлось срабатываться с новым начальством в лице Сергея Шойгу и его команды. Собеседник «Досье», близкий к руководству Минобороны, вспоминает Сергуна как независимого профессионала:
Он был самодостаточный человек. Я не видел, чтобы он со всеми якшался. С одной стороны, всем пожмет руку и улыбнется, с другой стороны — держал уважительную дистанцию. Очень быстрые реакции в словах, в действиях, в ответах. Создавал впечатление профессионального, умного человека, не алкоголик, как некоторые. С Шойгу общался уважительно, но никогда не заискивал.
Причины уважительной дистанции могут крыться в том, что покровители Сергуна стояли выше министра обороны. Кроме того, как рассказывал исследователь Марк Галеотти, ссылаясь на собственные источники, Сергун «тонко чувствовал, что от него хотят услышать в Кремле». Так он, видимо, заслужил расположение руководства. Собеседник «Досье» обращает внимание, что вскоре после смерти Сергуна в 2016 году его дочь Ольга заняла пост замглавы управделами президента. «[Глава управления делами президента Александр] Колпаков — чисто фсбшный фсошник [он служил в 9‑м управлении КГБ, а затем в ФСО]. И он тут же берет на работу дочку Сергуна. То есть у них была настолько серьезная благодарность, настолько тесное общение, что они тут же ее трудоустроили». Другим заместителем наряду с дочерью Сергуна был Павел Фрадков — сын директора СВР Михаила Фрадкова.
Вероятно, именно хорошие отношения руководства разведки с Кремлем и другими спецслужбами помогли ГРУ, по выражению Галеотти, «восстановить свой авторитет и укрепить позиции после затяжного периода опалы». Действительно, Сергуну удалось не только откатить часть сердюковских реформ (ГРУ все же оставило при себе спецназ), но и повысить статус военной разведки в глазах российского руководства. Именно ГРУ вышло на первый план в последовавших украинских и сирийских кампаниях, сумев зарекомендовать себя в гибридных военных действиях, в том числе в кибератаках. (Подробнее читайте в части III. ГРУ на поле боя)
В январе 2016 года 58-летний Игорь Сергун умер при загадочных обстоятельствах: то ли во время командировки в Ливан, то ли, если верить официальной версии, в Подмосковье от инфаркта. Его смерть сделала кресло главы ГРУ объектом аппаратных интриг между министерством обороны и департаментом военной контрразведки ФСБ (ДВКР), надзирающим за ГРУ.
Незадолго до смерти Сергуна, в 2015 году, ДВКР ФСБ возглавил Николай Юрьев — как говорит источник «Досье» в Минобороны, «абсолютно нелояльный Сергею Кужугетовичу человек». Назначение Юрьева происходило на фоне скандала с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай», члены которой взломали почту помощницы тогдашнего руководителя департамента строительства Министерства обороны Романа Филимонова. Хакеры написали письмо главе департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковнику Александру Безверхнему с требованием навести порядок в Минобороны и предложили контрразведчикам выкупить массив украденных данных с 50-процентной скидкой. Филимонов был близок к Сергею Шойгу, поэтому после взлома министр обороны был лично заинтересован в поимке хакеров и, как сообщала «Фонтанка», отдал приказ разоблачить их. После этого в ГРУ была образована оперативная группа, которую возглавил заместитель Сергуна генерал Сергей Гизунов. Глава ДВКР Безверхний, недоглядевший за Минобороны, ушел в отставку, а министр обороны попытался поставить на его место более дружественного кандидата — но потерпел неудачу. Так ДВКР ФСБ возглавил Николай Юрьев.
К январю 2016 года за министром обороны Шойгу было уже несколько аппаратных поражений: публичный позор с хакерами, неудавшаяся попытка продвинуть своего человека на пост главы ДВКР, а тут еще и кресло начальника ГРУ становится вакантным. На этом фоне военная контрразведка ФСБ активно пыталась продвинуть своего человека на эту должность, а Шойгу не обладал достаточным влиянием, чтобы продавить близкого к себе кандидата.
Результатом этой борьбы стал компромисс: военную разведку возглавил тяжело больной раком Игорь Коробов. Он практически не принимал участия в руководстве — его роль сводилась к тому, чтобы быть временщиком, пока Шойгу укрепит свои аппаратные позиции. Фактическое руководство спецслужбой в тот момент осуществляла команда предыдущего руководителя службы, покойного Игоря Сергуна, в частности его заместители Сергей Гизунов, Александр Кустов и Игорь Лелин. Очередной «триумвират», как и в начале 1990‑х годов, не пошел спецслужбе на пользу. Именно на время Коробова (вернее, на период фактического отсутствия руководителя) выпали самые громкие провалы ГРУ последних лет: неудачное отравление перебежчика Сергея Скрипаля и последовавшее за ним интервью офицеров Чепиги и Мишкина, разлетевшееся на мемы, поимка шпионов ГРУ в Нидерландах и провалившаяся попытка госпереворота в Черногории. На посту главы военной разведки Коробов провел последние годы своей жизни и скончался в ноябре 2018 года.
Сейчас ГРУ возглавляет Игорь Костюков. Ранее он числился военным атташе в посольстве России в Греции, а также одним из руководителей российской военной операции в Сирии.
Собеседник «Досье» утверждает, что кандидатуру Костюкова Шойгу продавил у Владимира Путина «на истерике». Самого главу ГРУ источник «Досье» называет «легковесным» и «слабым» человеком, который «полностью лег под Шойгу»: если раньше руководство спецслужбы держалось особняком от групп влияния Министерства обороны, то Костюков спокойно выпивает с функционерами. Отношения со старой командой бывшего главы военной разведки Игоря Сергуна у него не заладились — источник «Досье» утверждает, что заместитель Сергуна Сергей Гизунов ушел из ГРУ в «Роскосмос» из-за нежелания работать с Костюковым. Сообщений об отставке Гизунова в публичном пространстве не появлялось, но его полный тезка числится заместителем генерального директора АО «ЦНИИМаш» — головного машиностроительного института «Роскосмоса» как видно из сохраненных копий страницы на Wayback Machine, Гизунов занял эту должность после января 2022 года × . Другие генералы ГРУ нового начальника воспринимают с усмешкой. «К нему относятся очень странно, как будто он такую „сапоговую службу“ делает. Считается, что его оперативная сила очень маленькая. В общем, он не утонченный», — добавляет источник «Досье».
Как выяснил Центр «Досье», сын Костюкова Олег пошел по стопам отца и защитил в Дипломатической академии МИД диссертацию на тему «Развертывание глобальной противоракетной обороны США как угроза национальной безопасности Российской Федерации». В 2022 году СМИ сообщали, что он работал в посольстве России в Италии и пытался ослабить позицию премьер-министра страны Марио Драги, который в итоге подал в отставку.
Сегодня, как и во времена СССР, история спецслужб пишется по провалам: об успешных операциях публично не отчитываются. Именно поэтому ГРУ — это ведомство, которое, как кажется со стороны, преследуют неудачи и разоблачения. Сотрудники попадаются в зарубежных командировках с чеками на такси от военной части до аэропорта, подвергаются публичному телеунижению с Маргаритой Симоньян и погибают в стенах собственной штаб-квартиры, заснув в пьяном виде с сигаретой.
Как рассказал «Досье» собеседник, близкий к руководству Министерства обороны, в публичных провалах сотрудники ГРУ склонны винить безразличие руководства — и у них есть на то основания. Из всех российских разведок ГРУ — единственное ведомство, которое не подчинено напрямую президенту. ФСБ и СВР являются отдельными федеральными службами и регулярно отчитываются перед Владимиром Путиным. ГРУ же — управление внутри Министерства обороны. Оно докладывает в первую очередь руководителю Генштаба и министру.
Хотя руководителя военной разведки назначает президент, эта должность становится предметом подковерной борьбы между министром обороны и департаментом военной контрразведки ФСБ. В демократической стране с развитой системой сдержек и противовесов это обстоятельство не имело бы большого значения. Но в персонализированной автократии, построенной на внутренних интригах между олигархическо-силовыми кланами, отсутствие постоянного и прямого доступа к «первому лицу» значительно ослабляет позиции руководителя военной разведки в аппаратных противостояниях. Все это напрямую отражается на общем управлении ГРУ и отношении к спецслужбе со стороны верховной власти.